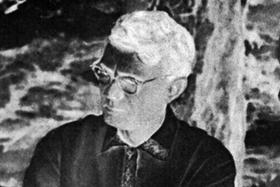Сусловщина
Сусловщина — многогранное явление, определившее судьбу русского народа во второй половине XX века.
В изначальном своём смысле этот уничижительный термин нёс значение стиля руководства партией, который исповедовал сам тропнеймер, Михаил Суслов, и его последователи в ЦК КПСС. Впрочем, разборки на тему того, как там надо было правильно, мы оставим левакам. Анклав же больше всего заинтересован в том, чтобы поисследовать культурный «фронт» деятельности сусловцев. На нём, помимо самого Михаила Андреевича, «солировала» такая деятельница, как министр, собственно, культуры, Екатерина furz Фурцева. Так что у нас, как вы можете заметить, она часто упоминается рядом с Сусловым.
Антипод контркультуры эпохи застоя и советского медийного западничества.
Откуда это пошло, или пять копеек о соцреализме[править]
А пошло всё из раннесоветского желания вылепить нового человека. Чисто экономических мер, вопреки вере марксистов, тут почему-то оказалось недостаточно. Создание прослойки метисов-новиопов в этом деле было бы, конечно, эффективно на 100 %. Да только процесс этот, очевидно, медленный. Требующий целого поколения, не меньше. Перевести страну на некий пролетарский язык типа эсперанто? Тоже хорошо, но по определённым причинам и эта идея заглохла.
Вот и вышло так, что основным средством борьбы за создание хомо советикуса стала культура.
Взглянем на общее положение дел к первой пятилетке. Высокое искусство эпохи добезцаря, гнездившееся в городах, было выпилено чуть менее, чем подчистую. Последняя советофильская волна авангардизма — ЛЕФ и иже с ними — тоже уже была на спаде. Но и старое творчество глубинного народушки новой властью тоже, очевидно, не котировалось и считалось реакционным. В общем, обстановка — практически чистое поле. Так что к началу тридцатых начал формироваться новый всеобъемлющий художественный стиль: социалистический реализм. Собственно, сусловская культурка эпохи застоя суть его поздняя стадия.
Попробуем теперь раскрыть, чем же являлся соцреализм.
Для начала укажем, что из старых стилей он больше всего походил, конечно же, на классицизм. В этом каждый может убедиться своими глазами. Просто прогуляйтесь по парадным кварталам сталинок. Спуститесь в метро в центре Москвы. Найдите в музее картины Исаака Бродского, например. Второе: об аудитории своей криэйторы-соцреалисты, как сказано выше, думали в ницшеанском ключе. Воспринимали её как канат, натянутый между гнилым человечишкой времён царизма и великим сверхчеловеком коммунистической эпохи. Отсюда — дидактичность сюжетов. Да такая, какая классицизму и не снилась.
А что же, собственно, соцреализм пытался преподать? Можно было б сказать: единственно верную марксистко-ленинскую философию. Да вот только это не совсем так; все важные для этой философии работы написаны крайне запутанно, непонятно. Искусства из этого пластилина не слепишь.
Так что инженеры человеческих душ извлекли из марксизма некое «ядрышко». Основу любого его практического применения. Эта основа — убеждённость в том, что именно они, марксисты, разгадали истинную сущность хода истории. Мы, наверное, не ошибёмся, если назовём это явление историзмом.
Средоточием хода истории объявляется революция.
Если действие происходит до революции, то сюжет должен повествовать о том, как плохо тогда жили и как прогрессивные силы тонули в косности и реакции. Если действие происходит во время революции, то единственный допустимый сюжет — «как мы были правы, когда свергли гнилой царизм». Самая мякотка — произведения в современном на тот момент сеттинге. Они, как нетрудно догадаться, должны были рассказывать исключительно о сладости и кайфовости жизни при социализме! А про далёкое будущее, как ни странно, особо задумываться вообще было не сталиноугодно. Труъ-шной научной фантастики в 1930-е (и далее) практически не было, доминировало УГ под названием «фантастика ближнего прицела», близкое к производственным романам.
Ага-да, мы переходим к самому необъяснимому в соцреализме. Да, он не только не баловал нас разнообразием сюжетов. Он отличался ещё и крайней, прям вот вообще совсем крайней жёсткостью форм. Вы думаете, что классицистические комедии друг на друга похожи? Вы просто не смотрели сталинское кино. Не читали тогдашние романы. Откровенно говоря, если хотите погрузиться в эту тему — поищите исследования на тему тоталитарного искусства (а вышло, кто бы что ни говорил, именно оно). Здесь же и сейчас в качестве момента характеристики мы укажем такой факт, что там даже мысли о чём-то личном для персонажей этих супер-пуперских произведений были чем-то непристойным. Только благо коллектива, только хардкор. И ещё, конечно же, нельзя было допускать никаких моральных полутонов, никаких неоднозначных мест.
| « | «Товарищ Сталин изучает труды товарища Ленина», «товарищ Ленин изучает труды товарища Сталина», «товарищ Ленин и товарищ Сталин изучают мух на потолке». | » |
| — Старый Лурк описывает соцреализм | ||
Конечно, действительно талантливый автор и в таких узких рамках сможет сделать интересные вещи. Есть ведь жёсткие стихотворные формы типа сонета. Но в условиях сталинского режима было просто бессмысленно напрягаться. А генерировать, аки современные нейронки, однообразный и непритязательный контент про энтузиастов-рабочих, добрых колхозников и мудрых вождей было безопасно и, главное, одобряемо.
Занятно, что в чём-то самой свободной областью советского искусства стала детская литература. Да, были бредни про гимназиста Вову Ульянова и всяких там пабликов Павликов Морозовых. Но была и тусовка, сложившаяся вокруг Маршака, где нашли пристанище последние авангардисты. По сути, детская литература стала чуть ли не единственной легальной частью советской контркультуры, а после распада СССР именно из неё выросла значительная часть постсоветской эклектики (например, творчество Григория Остера, Валерия Роньшина и журнал «Трамвай», где публиковались они оба).
Переходный период: шестидесятничество[править]
Наша присказка и так получается запредельно огромной и замороченной, поэтому тут мы постараемся блюсти краткость.
Смерть Сталина и последовавшая оттепель заставили соцреализм измениться.
Некоторые творцы, сохраняя веру в марксистский историзм, внутреннюю убеждённость в том, что «раньше было хуже», отступили от жёстких форм, и торжественно вернули в литературный[1] мейнстрим научную фантастику. Именно на этот период приходится творчество Ефремова, бо́льшая (и самая любимая совками) часть библиографии Стругацких, магнум-опусы Снегова и Казанцева. А вот фэнтези так не свезло. Видимо, оно даже для либеральной эпохи слишком противоречило материализЬме и в итоге оказалось загнано в «детское гетто». Наблюдались даже уникальные случаи попыток выдать фэнтези за научную фантастику. Например, небезызвестный пересказ «Властелина Колец» от Бобырь. Который «это не кольцо, это какой-то прибор!».
Но поговорим о более реалистичных жанрах. Известнейшей частью шестидесятничества были писатели-деревенщики. В некотором роде они оказались инверсией фантастов: сохраняя внешнюю форму своего творчества, деревенщики начали поднимать совсем другую проблематику. Они вернули в мейнстрим тот самый архетип «маленького человека», а самые смелые даже затронули вопрос трагедии коллективизации.
Не менее огромное место в культурном пространстве заняла «лейтенантская проза». Хотя это далеко не только проза, а целый мощный пласт творчества (фильмов тоже, например), посвящённый раскрытию правды (ну, или «правды») о войне.
Напоследок — минутка о монументальном искусстве. Не секрет, что в прошлую эпоху в советской скульптуре доминировали ленины всех сортов и разновидностей; иногда — довольно абсурдные. Но с приходом к власти Брежнева (и ростом влияния Суслова, да) в этой области начала педалироваться тема Победы; тогда-то и появились все эти неизвестные солдаты, давящие бетонные монументы на Всеволожском шоссе и иже с этим. Нет, лениниана в принципе сохраняется, но краник её ощутимо прикручивают.
А, и да: крайне негативным явлением стал указ Хрущёва об «устранении излишеств» в архитектуре. Именно благодаря ему наши города приобрели тот самый незабываемый панельный вид, который хорошо смотрится только на обложках группы «Молчат дома», а жить в нём «тяжело и неуютно» ©.
Итак, эпоха высокой сусловщины[править]
Логос брежневского правления требовал, в общем-то, одного: оставить всех государственных чиновников в покое в самом широком смысле этого слова. Сообщество официальных советских творцов тоже по сути являлось чиновниками. И, будучи оставленными в покое, к 1970-м они окончательно осознали себя новым дворянством. Но не простым дворянством, нет. Признать это мешали установки насчёт порки и борзых щенков, которые очень крепко откладывались в головах. Так что интеллигенты-лирики стали мыслить себя кем-то вроде декабристов. «Мы двиджа, вознесённые над серой быдломассой, но при этом мы за добро и прогр♂ass♂!»
| « | Я, Лев Натанович Щаранский, происхожу из древнего и знатного рода московских интеллигентов. Предки мои, князья Щаранские, владели обширными имениями и десятками тысяч душ, которым, однако, несли свет и просвещение. | » |
| — Толстая пародия, но в некотором смысле выражает суть | ||
В общем, наши дворяне начали показывать, что обладают всей полнотой власти на вверенной им территории. И выражалось это в гноблении всего и всяческого творчества, казавшегося им «низким». Внутри страны их руки были длинными. Вытолкать в контркультуру могли кого угодно и что угодно. Но вот в случае с иностранными произведениями получалось смешно. До капиталистического мира руки сусловских творцов достать не могли, и им приходилось ограничиваться желчными, злыми газетными статьями на тему того, какую гха-а-а-адость там за бугром читают, слушают и смотрят. Зачастую — ещё и с применением ультимативного приёма «не читал, но осуждаю».
Надо отметить, что эта часть явления сусловщины оказалась наиболее живучей. Ни гласность, ни появление всяких там интернетов этой ксенофобии не повредили. Даже во второй половине нулевых появлялись, например, статьи про ужасную опасность аниме; а самый последний известный рецидив — высказывание Гросс-Днепрова насчёт «Доки 2» — был вообще в 2018-м.
А как же наши дворяне зарабатывали себе на хлебушко насущный? Это им обеспечивали «союзы» официальных творцов, которые гарантировали им продажи произведений. Эти объединения часто сравнивались с средневековыми цехами и гильдиями, но нам навскидку кажется, что тут идёт даже более жёсткая тема. В конце концов, если какой-нибудь ганзейский купец не мог продать товар — это были проблемы купца. А если член Союза Писателей накреативил что-то не продающееся… это были проблемы тех, кто эту книгу не хотел покупать. Подобную макулатуру сбывали методами, ну, плюс-минус современных МЛМ-щиков.
От официального творчества, собственно, требовалось примерно одно: идеологическая выдержанность. Описание официальной советской точки зрения на всё сущее зачастую полностью подменяло честный творческий труд. Причём речь, пожалуй, уже не шла о сознательной попытке изменить человеческую природу, как это было до дедовой войны. В 1980-е это скорее было похоже на некую программу, исполняемую без понимания смысла, как в Вангерах…
Из сталинских времён официозный позднесоветский стиль пронёс и ещё кое-что. Во-первых, крайне простые и плоские характеры персонажей. «Серые» антигерои встречались прям очень редко, так навскидку мы даже не сможем вспомнить ни одного. Во-вторых, творцы избегали сложных метафор и вообще любых моментов, которые могли быть восприняты неоднозначно. Ирония? Вы что, шутите? Ещё чем-то из тогдашних времён нам видится любовь к разумному-доброму-вечному в сиропно-приторном варианте. Как следствие — распространённым способом протащить что-то неканоничное мимо цензоров было снять либо детскую сказку, либо комедию.
Инновацией Суслова (и Фурцевой, да) были попытки изобразить и продвинуть советское общество потребления — по сути, аналог американского общества 1950-х, только на основе советской идеологии и плановой экономики — чтобы люди не тянулись к западному. Именно в это время фильмы, книги и др. отходят от высоких духовных идеалов коммунизма, в них начинают всё чаще показывать поездки в Ялту, в Артек и даже за границу, и вообще советский аналог «красивой жизни» (именно на этой волне появились «Бриллиантовая рука», «Сто дней после детства», «Спортлото-82» и др.). Как ни забавно, но советское общество того времени в каком-то смысле жило по принципу «американской мечты»: «Коллега друга моего соседа ездил в Ялту, точно-точно! Будешь хорошо работать, как он — и ты поедешь». По большей части это были, конечно, «потёмкинские деревни» — но на современных совков и китаедрочеров эстетика «советского гламура» до сих пор производит впечатление: мол, вот если бы ещё чуть-чуть напыжились, и если бы у власти был Андропов, а не предатель Горбачёв — то тоже сделали бы как в Китае.
Вместо послесловия[править]
Та самая американская «фабрика грёз» — сверхуспешная, для всех эталонная массовая культура — давно перестала быть единственной. Мы полюбили поп-культуру Японии; узнали о том, что Франция в этой области имеет определённый успех. Даже небольшая Южная Корея заняла уверенное место в «пантеоне». Даже Польша, чёрт побери, претендует на лидерство в мировом игростроении!
Стран с крутым масскультом много. Но ни одной социалистической среди них нет.
Да, какие-то произведения советской эпохи мы можем воспринимать, понимать и даже любить. Но фабрикой грёз там и не пахло. Не делались почему-то под сенью «единственно верной» марксистской идеологии произведения, способные зажигать сердца миллионов.
Не делались и не делаются.
Примечания[править]
- ↑ И не только; вспомним, например, любимую Лукасом «Планету бурь».
| |||||||